О проекте
- Печатное издание
- Мультимедийная версия
- Для читателя
- Авторы
- Вступительные статьи
- Публикации
- Отзывы
- Для прессы
-
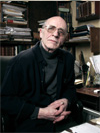 К читателю
К читателю
этой книги Валентин Непомнящий -
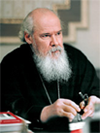 Читателям
Читателям
Антологии русской поэзии Святейший Патриарх Московскийи
Всея Руси Алексий II -
 Вступительная статья
Вступительная статья
к «Приложению» Ольга Нерсесова
|
Когда в незапамятные времена человек обнаружил, что его слова и фразы могут быть организованы ритмически и в этом новом качестве обретать новые свойства: облегчать тяжелый труд, успокаивать и убаюкивать ребенка, выражать то, что казалось невыразимым, рождать мелодию, помогать играть, радоваться и молиться, — он вряд ли мог сразу осознать масштабы события. Еще не родилась рифма — как свойство и признак стиха она появится позже, — но открытие поэзии совершилось; и значение его оказалось не меньшим, если не большим, чем изобретение колеса — этого подобного солнцу или луне круга, вращением преодолевающего пространство, движением вперед побеждающего время. Изобретя стихи, открыв для себя чудо поэтического творчества, человек тем самым соприкоснулся с чудом Бытия, интуитивно ощутил, что система гармонически устроенной речи являет отзвук и образ Творения как великого Устроенного Целого, Божественной системы, имеющей начало в Слове. В самом деле, чем совершеннее произведение поэзии, тем адекватнее воспроизводит в нем себя само Бытие: свою подчиненность определенным ритмам, свои законы необходимости и свободы, свою наполненность красотой, «музыкой сфер», как говорили древние, свой кругообразный порядок гармонической симметричности — все эти бесчисленные соответствия, созвучия, совпадения различных черт, положений и событий, эти переклички ситуаций, их сходства и повторы, «рифмы» во всем, что происходит в природном и человеческом мире («как аукнется, так и откликнется»); всё — и физическая конечность тварного мира, и вечность истинной Жизни — отзывается в произведении подлинной поэзии: в физической конечности его текста при внутренней бесконечности содержания, той поэтической бездонности, что в родстве с бессмертием. Когда Пушкин называет религию «вечным источником поэзии у всех народов», речь идет не о тематической стороне поэзии, то есть не о перенесении в нее религиозных сюжетов и идей (которые в разных верованиях различны, тогда как истинная поэзия может быть внятна и близка людям разных культур и религий), а о собственной специфике и природе поэтического, вообще художественного дара; дар этот «вечным источником» своим имеет, с одной стороны, пусть не осознанную, как в религии, а интуитивную «уверенность в невидимом» (которая, по апостолу Павлу, есть одно из определений веры), уверенность нашего духа в гармонической устроенности мира, в его обращенности Творцом к человеку; а с другой — ответную творческую, и совестную, по существу молитвенную, потребность человека отозваться на эту обращенность. И то высокое и чистое чувство, то волнение, порой до комка в горле и слез, что вызывает в нас подлинная поэзия, пусть даже внешне непритязательного содержания, есть — как и все лучшие человеческие переживания — всплеск глубинной памяти нашего духа о его бессмертии, о его включенности в таинственную поэзию Творения и высокой в ней предназначенности. Эта память нашего духа о его сыновстве Духу Животворящему дарована нам раньше всяческих наших собственных мыслей и убеждений, это знание не может быть истреблено никакими свойственными людям заблуждениями, оно противостоит как извращениям, самым соблазнительным, так и профанациям, самым благообразным, оно сказывается в любом произведении настоящей поэзии, о чем бы оно ни было и чего бы ни хотел автор. |
Таковы самого общего характера размышления, приходящие в голову пишущему эти строки при чтении настоящей — небывалого доныне объема и охвата — Антологии русской поэзии как поэзии православного народа. Составляющие ее произведения — разного художественного достоинства; среди авторов — и гении, и крупные, и просто хорошие поэты, и рядовые таланты: те, у кого выражение религиозного чувства освещено искрой поэзии. Существует немало рифмованных текстов на религиозные темы, в которых поэзия по существу отсутствует. Они остались за пределами данной антологии. В каждом из ее четырех томов два раздела. Один — «Времена года» — состоит из стихов, которые, в большинстве своем, не заключают никакой собственно религиозной тематики, а просто представляют картины природы в разных ее состояниях: величественные и трогательные, радостные и грозные, печальные и забавные, которые в совокупности своей воссоздают — в слове, ритме, звуке, смысле стиха — космический ритм жизни мира в его заданных Творцом законах природной необходимости, образ грандиозного колеса годового цикла, полный красоты и невольного, порой не осознаваемого авторами благоговения перед Премудростью Творения. Этот первый круг служит естественно-природным фоном для второго, в центре которого — человек, в его отношениях к Богу и с Богом, в его положении единственного в тварном мире существа, которое, будучи, как и вся природа, подвержено законам необходимости, в то же время наделено Божественным даром свободы. Таков раздел «Православные праздники». Тема его — целеустремленная свобода в мире природной необходимости, а именно — свободное стремление человека к сверхприродному совершенству Того, по Чьему образу он сотворен; свободная воля осуществлять свое богоподобие на пути веры, борьбы с грехом, внутреннего совершенствования. При чтении этого кругообразного собрания русских стихов приходят на память вдохновенные слова одного из отцов Церкви о сотворении мира: «До того, как мы пришли на свет, Он уготовал нам вечное наследие Царства, как Он Сам говорит: “прежде сложения мира“… Прежде нас, ради нас Он простер над всем этим чувственным миром небо… Ради нас, прежде нас Он сотворил великое светило в начале дня, и меньшее - в начале ночи, и установил их и прочие звезды на тверди небесной… Ради нас до нас Он основал землю, простер море, над ним богато излил воздух… Он вложил в нас врожденный закон и непогрешимого судью и не заблуждающегося наставника — собственную совесть в каждом из нас…» Так говорит свт. Григорий Палама о том, что весь мир создан Богом для человека, человек же призван созидать себя лучшего. И тут же вспоминается русское стихотворение — пушкинский «Пророк»: дело поэта — глаголом жечь сердца людей, будя в них совесть, которая есть наше богосыновство; человек внимает все Творение разом, ибо является его центром, — и призывается соответствовать этому высокому назначению: «и внял я неба содроганья… И Бога глас ко мне воззвал…» |
|
Для всякого человека, знакомого с русской культурой, очевидно огромное влияние, которое оказало Православие Наиболее яркое свидетельство этого представляет русская литература, являющая замечательное поле духовных исканий и творческих дерзаний великих писателей и поэтов нашего Отечества. К сожалению, история российского народа XX века знает печальные примеры насильственного разделения веры Тем не менее даже в суровые времена богоборчества великая русская литература оставалась живым свидетельством важнейшего значения веры для всякого человеческого общества. В эпоху государственного атеизма обращение Долгие годы христианские воззрения многих великих деятелей культуры оставались неизвестными широкому кругу читателей, произведения духовного содержания замалчивались по идеологическим соображениям. |
Милостью Божией ныне отношения Церкви и общества приобрели новое содержание, храмы наполнились молящимися, а в произведения поэтов возвратились изъятые цензурой строфы. Тем не менее сегодня, в эпоху натиска секуляризма, вопрос сохранения христианских духовных и нравственных ценностей остается в высшей степени актуальным, особенно Очевидно, что достижение значительных результатов невозможно без противостояния порокам, разрушающим жизнь и здоровье молодежи, проповеди «здравого учения» Хочется верить, что издание Антологии русской поэзии Надеюсь, что настоящая публикация послужит возрождению традиций семейного чтения и приобщению молодежи |
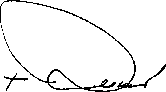
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
Благословение блаженно почившего Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II на это издание было получено
в 2006 году.
|
Настало время возвращения обществу православного культурного достояния, от которого наш народ на протяжении десятилетий был искусственно отторгнут. Антология русской поэзии «Круг лета Господня» призвана помочь восстановлению истинного облика отечественной культуры как культуры христианской, культуры православной. Прежде всего мы обращаемся к душам молодых людей. Именно им мы хотим показать красоту созданного Богом мира, запечатленную в слове и в красках отечественными поэтами и художниками, дать почувствовать и осознать дух и смысл русской поэзии, неотделимой от высоких идеалов, рожденных христианской верой, мощь и красоту русской речи.
Это особенно важно сегодня, когда в языке сложилась угрожающая ситуация, произошло очевидное падение речевой культуры. Выдающийся русский педагог |
Настоящее «Приложение» к Антологии русской поэзии представляет собой пособие по основам красноречия, методическую разработку, основанную на многолетней практике преподавания в специальных учебных заведениях технологии произношения слова и устранения речевых недостатков. Навыки, которые поможет приобрести данное пособие, будут способствовать умению произносить все звуки речи не просто четко, ясно, громко, но и красиво, «стремясь усладить слушателей звучанием речи», как говорил лицейский учитель Пушкина Н.Ф. Кошанский. Для публичного произнесения поэтического текста нужны не только предварительная мыслительная и духовная работа по осмыслению произведения, не только твердое знание его наизусть, но необходима и верная техника артикуляции слова для того, чтобы скрытая в буквенных сочетаниях музыкально-речевая гармония обрела свое неповторимое звучание. Для тренировочных упражнений по устранению речевых недостатков неслучайно отобраны поэтические миниатюры-пословицы, в которых заложен опыт и мудрость народа, свод правил жизни и многовековая историческая память. Со времен крещения Руси в самобытной культуре народной речи нашли отражение перефразированные евангельские истины, ставшие пословицами. Эти пословицы живут в сознании каждого, кто говорит на русском языке, они звучат и в устах тех, кто не ведает источника народной мудрости: «Как аукнется, так и откликнется» — «Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Лк. 6,38); «Шила в мешке не утаишь» — «Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано» (Мф. 10,26); «Кто не работает, тот не ест» — «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, то и не ешь» (2Фес. 3, 10). Евангельские истины, органично и естественно вошедшие в живую ткань русской речи, придают ей духовную силу и глубину, возвышают и просветляют человеческие души. Надеемся, что предлагаемый гармонический синтез технических навыков, способствующих устранению речевых недостатков, и упражнений-пословиц, одухотворяющих и облагораживающих русскую речь, поможет вам в кропотливой, усердной работе по совершенствованию собственной речи и напомнит о необходимости бережного и ответственного отношения к культуре родного слова. |


